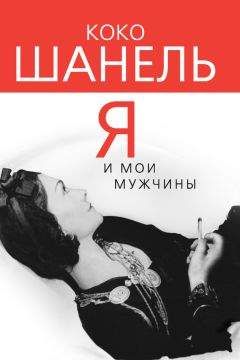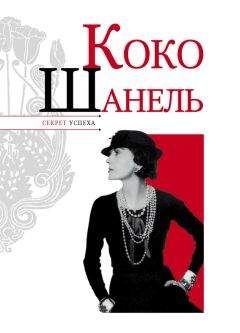Игорь Афанасьев - <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="29796168677d66646965667f6c076a6664">[email protected]</a> (ФАНТОМ - ЛЮБОВЬ)
Говорил он удивительно. Он мог говорить о чем угодно — содержание не имело никакого значения. Саша знал все и еще немножко больше, он читал всех и писал сам, он великолепно играл на рояле и превратил один из театральных спектаклей в свой сольный номер, на протяжении которого он разбирал классический рояль на части, продолжая играть на нем некую фантастическую музыку. Его отовсюду выгоняли и никуда не хотели принимать вновь, потому что он находился во всех списках тунеядцев, фарцовщиков, рассадников западной идеологии и неблагонадежных элементов, но всякий раз кто-то вновь рисковал принять его на работу, потому что он был пропитан талантом, как фитиль керосиновой лампы горючим. Но главным его талантом было умение нести слово. Он мог бы стать выдающимся проповедником либо лидером революционного кружка, он мог повести за собой толпу и отвести ее в любое место, хоть к Богу, хоть к дьяволу. Ему было все равно. Саша получал истинное наслаждение от внимания к нему, он не переносил рядом никого, кто мог отвлечь это внимание от него хоть на секунду. Это была его пища, его воздух, его жизнь.
В этот вечер опера была прослушана несколько раз, и на всех присутствующих обрушился поток информации, в котором удивительным образом переплетались христианские тезы и антитезы, буддистские ассоциации и постулаты хиппи-поколения.
Когда было выпито все вино и сварен весь кофе, когда были выкурены все сигареты и папироски, когда умолкли все теологические и музыкальные споры — пришел рассвет.
По углам квартиры лежали совершенно изможденные гости, а голубоглазый Саша смотрел на всех сияющими глазами и тихо пощипывал струну гитары.
— Дзен.
Филипп и Лариса вышли на пустынную набережную Днепровского залива и молча побрели к станции метро. Они попрощались у ее дома, совершенно точно зная, что делать этого не нужно, но выполнили все правила принятых условностей и лишь долго не отпускали руки друг друга.
…Пожелтела, пожухла трава,
Ливень пляшет чечеткой по крышам,
Каруселью кружится листва
Над Крещатиком и над Парижем.
В мире дух молодого вина —
Время свадеб и нового хлеба.
Зябко ежится в небе луна
В ожидании первого снега.
Первый снег,
Белый снег,
Каждый год, каждый век.
Сколько лет,
Сколько бед,
На земле укрыл его пушистый плед,
Сколько вер и надежд
Он упрятал в тайниках своих одежд.
Сколько слов,
Сколько снов
Пронеслось поземкою поверх голов...
Жизнь театрального института выглядела со стороны довольно странно.
По всем углам и аудиториям мычали, вопили, корчили рожи и рвали на себе одежды на вид вполне нормальные молодые люди. Они же учились делать подлинно и реалистично все то, что делали до сих пор в жизни не задумываясь. Седая тень Станиславского висела в каждом классе рядом с портретами Ильичей, и во всяком этюде нужно было прежде всего определить правильную идею, которая бы не противоречила кодексу строителя коммунизма.
Но даже проповеди истории КПСС, главного предмета во всех учебных заведениях государства, в этом институте носили отпечаток легкого идиотизма. Преподаватель политических наук был человеком странноватым, он являлся на лекцию, и прежде, чем доложить об «апрельских тезисах», заставлял весь поток студентов хором спеть украинскую песню.
— Прилетiла ластiвка, з голубою ласкою, — душевно выводила циничная орава, а из глаз тайного оппортуниста выкатывались слезинки.
Другой персонаж, призванный обучать театральную молодежь правилам гражданской обороны, в молодые годы служил в кавалерии. Стоило только задать ему пару провокационных вопросов, как, вместо изучения материальной части противогаза, перед глазами зачарованных слушателей неслись непобедимые буденовские тачанки, и лихие красные кавалеристы рассекали врага от уха до седла.
Мужская половина человечества могла сдавать командиру курсовые работы за шахматной доской, но для этого нужно было владеть искусством достойно проигрывать большому мастеру, девушкам же нужно было только выбрать правильную форму одежды — чем меньше, тем выше оценка.
Слабых духом учителей нельзя было подпускать к театральным бурсакам на пушечный выстрел: так на уроках музыкальной грамоты, вместо того, чтобы учиться отличать целую ноту от половинки или четверти, хитрые бездельники наловчились задавать один и тот же вопрос романтической полусумасшедшей старой деве.
— Скажите, а чем занимается ваш муж?
— Мой муж — рояль! — гордо отвечала еще не старая худенькая женщина и, откинув седеющие пряди волос, начинала играть Бетховена, чего собственно и добивались вопрошающие.
Происходившее было похоже на запрещенный театр абсурда, и пьесы Ежена Ионеско уже не казались Филиппу такими далекими от социалистического реализма.
По-настоящему вкалывать приходилось на уроках танца, вокала, сценического движения и сценической речи. Классический станок и шпага отлично помогали сохранению стройных фигур и гордой осанки будущих звезд, а неустанные труды преподавателей вокала и речи помогали выудить и поставить в нужное место даже самые тухлые голоса из самых потаенных углов «тазового резонатора».
Уроки актерского мастерства стояли в отдельной графе. Все остальное существовало как гарнир к котлете. Здесь учили главному — секретам сцены. Секретов было много.
Сложность их постижения заключалась в том, что о многих настоящих двигателях человеческих страстей говорить было не принято или считалось неприличным. Нужно было неуклонно придерживаться лицемерных правил социалистического реализма. Секса в СССР, на то время, еще не было, были только правильные поцелуи на заводской проходной и крепкая комсомольская дружба. У шефа, Ник Ника, запретили в театре показ пьесы, герой которой, встретив девушку на остановке троллейбуса, пригласил ее к себе домой, попить чайку, естественно. Дело было ночью, в ненастье, девушка была одна, в чужом городе, и это было для нее просто спасением, и мужчина ей понравился, но трахнуться в первый же вечер было идеологическим преступлением, а другого выхода у героев пьесы не было. Спектакль принимали четыре раза, пристегивали к финалу всякую белиберду, но все равно было ясно, что намека на близость не избежать. Студенты, правдами и неправдами пробиравшиеся на закрытые показы, стали свидетелями завершающей фазы борьбы постановщика спектакля с клерками из Министерства культуры.
— Неужели вы не можете отыскать мотивы, связанные просто с гуманным отношением советских людей друг к другу? — многозначительно вопрошал начальник отдела театров вконец издерганного режиссера. — Почему должна обязательно возникать любовь? Найдите другой выход!
— Хорошо! — поднялся режиссер из своего кресла. — Есть выход!
— Вот видите, — обрадованно потер руки клерк, — мы всегда верили в ваш талант. Так как мы выходим из этой ситуации?
— Когда они приходят к нему в дом, — громко произнес режиссер, — он сразу успокаивает ее и говорит, что ему отстрелили яйца на войне!
Режиссера вышибли из театра, но в этот момент в город приехал московский Театр на Таганке, и за эти гастроли из министерства повышибали всех, кто их позволил.
Спектакли этого тетра были откровением, глотком фантазии и свободы на сером фоне унифицированных "правдой жизни" спектаклей, созданных Константином Сергеевичем и его продолжателями. В каждом спектакле таилась загадка, огромный простор для ассоциаций и домыслов, шекспировские страсти здесь были правдивее всякой бытовщины, и главное: здесь был Владимир Высоцкий.
Ну, а в институте продолжалась игра в лицемерный соцреализм.
Разбирая мотивы поступков Ромео, нужно было объяснять, что парень полез на балкон второго этажа только для того, чтобы прикоснуться кончиками пальцев к волосам любимой и умереть от счастья. Героиню пьесы Островского возлюбленный убивал из пистолета исключительно потому, что она изменила ему с богатым капиталистом, а настоящая ярость и ненависть могла возникнуть у советских людей только при виде немецко- фашистских захватчиков.
Ник Ник старался внедрить в сознание своих выкормышей четкое понимание тройной психологии, по которой жила вся страна: говорилось одно, подразумевалось другое, а в кармане сворачивалась настоящая фига.
Значение фиги расшифровывалось на прокуренных кухнях страны.
Дом Натали и Александра, словно магнитом, притягивал к себе людей, для которых каждое дуновения свободного ветерка было живительной силой. Художники тащили сюда полотна, поэты читали свои стихи, музыканты играли, а многие просто дымили сигаретами и вели бесконечные философские споры.
Каким образом в круг посвященных попадали исключительно интересные люди, Филипп понять не мог, на что Натали с умным видом подсунула ему книжку Воннегута и сказала: